Осторожно, чтобы рук но занозить, отщипывал дед Матвей от «смолья» лучины и по-стариковски вслух сердился:
— Да… Немало добудешь… добудешь тут… Нет, видно, все, отдобывался… Все уж теперь!
Сухие, с круглыми суставами пальцы сами собой сложили лучинки стопкой, переломили о колено, сунули под поленья в печь. «Да-а… жди удачи! Дожи-да-айся…— думал старик, вглядываясь в загудевший огонь.— Не доглядел! У-у ты, язва!».
Рыженькая лайка Пальма молчала, спрятав нос в передние лапы. Бока ее чуть заметно раздулись. Она была сукота и гоняться за зверем, как ни старалось, не могла.
«Не фартит, елки-палки…— В груди Матвея что-то защекотало и потянулось вверх, к горлу.—Наохотился! Думал, хоть ишо разок по тайге побегаю, может, соболька добуду… Добыыл… Добудешь с тобой».
Пальма отмалчивалась и все старалась забиться куда-нибудь подальше в уголок.
— Што ж теперь? Назад нада!.. Дед поднялся с корточек, крякнул, постоял, ожидая, когда уймутся «муравьи» в отсиженных ногах, покосился на Пальму и побрел к лежанке. У стола он задержался, отрезал ломоть хлеба и, сказав: «Жри», кинул его Пальме — та не шевельнулась. Матвей потоптался на месте, почесал худую свою спину, снял с полки и развязал котомку; достал сахар, толстую палку колбасы; отрезал пахнувшим сосновой смолой ножом два куска: побольше оставил на столе, поменьше швырнул собаке. Кусок ударился о ее голову и отскочил в угол — Пальма тихонько взвизгнула, съежилась, ожидая еще ударов… Матвей опять рассердился, но ничего не сказал, а только махнул рукой и сел на нары. Котелок на печке потихоньку заводил свою таежную песню. Дед Матвей достал из кармана полушубка прутики смородины, переломил их и сунул в кипящую воду…
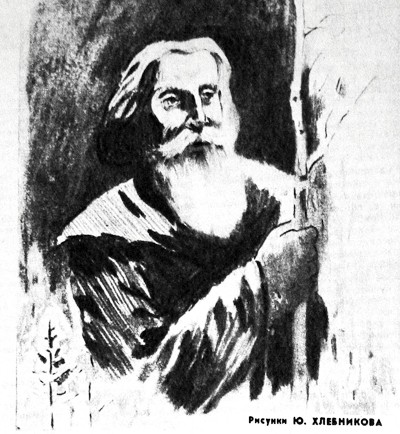
А Пальма все лежала неподвижно; думала о чем-то, виновато и обижено ткнув голову в передние лапы.
— Ну-у… будет. Пальме.. Ну хватит! Иди-ка!
Собаке поднялась и, слегка извиваясь телом, опущенными головой и хвостом подошла и доверчиво спрятала нос у деда в коленях — ей самой было досадно, что все так нехорошо получилось.
— Чо уж теперь… ладно… — Он погладил собаку своей жесткой, как деревянная лопаточка, ладошкой по голове потрепал за ушами и подтолкнул в угол к колбасе.
— Съешь пойди… Съешь, Пальма.. Но обижайся. — Пальма благодарно взглянула на него, вздохнула и пошла в указанный угол.
Потом Матвей напился душистого чаю с сахаром, съел черный хлеб с колбасой — и опять загрустил… На хотелось ему возвращаться ни с чем, не наохотившись, не набегавшись по тайге…
— Удружила ты мне… удружила, — ворчал дед Матвей. — Уж шут бы с тобой, да знаешь ли… обидно всеж-таки, может, последний раз уж теперь.
Пальма опять опустила голову и поползла под лавку…
— Да ладно уж… чо теперь говорить!— Матвей встал, неслышно прошел в больших катанках туда и сюда, сел на лежанку, посидел с минуту, прилег — и быстро поднялся.
— Чо жо, а? Эть идти надо… АА-я яй!..— Он, но торопясь, с неохотой надел пахнувший овчиной и воздухом полушубок. Просунул руки в лямки котомки, шевельнул плечом, осмотрелся. Пальма поняла, что охота окончена, и никак не могла скрыть своей радости: царапала лапой дверь, скулила и все озиралась на хозяина. «На ночь-то глядя, оно, конечно бы, и но надо, — подумал дед Матвей, — да чо высидишь?». И еще раз вздохнув, надавил корявыми пальцами на дверь.
Сплошной белой стеной шел снег. Было темно, тихо и празднично. Дед Матвей выдернул из снега скрипнувшие ремнями «камусья», положил на снег, встал и аккуратно обвязал ноги. Пальма, перекатываясь с задних лап на передние, сделала несколько прыжков в глубоком снегу и остановилась.
— Сичас уж, сичас! — Он оттолкнулся и неожиданно легко и бесшумно покатился по косогору вниз к ручью. Пальма взвизгнула и, «ныряя», побежала сбоку и чуть впереди. Дед Матвей, ловко лавируя меж лохматых частых елей, скатился в лог и, не останавливаясь, не прибавляя и не убавляя шага, пошел вниз, туда, где ручей падал в Кедровую.
— Вот добежим до Кедровой, тогда и до Шумихи-то рукой подать, а там — дорога,— говорил дед Матвей собаке, отставшей и тащившейся теперь уже на по целику, а лыжней.-— Домой придем, я тебе сенца свеженького в конуру брошу— вот оно тепло-то и будет…
Пальма догадалась по голосу, что дед Матвей простил ее наконец, благодарно заскулила в ответ, вильнула спиной и прыгнула вперед, слегка наступая на задки ускользающих лыж. Она не могла понять, что с ней такое случилось. Всегда у нее была одна забота: хорошо служить Матвею, но теперь, когда в ее утроба зародилась новая жизнь, служение хозяину отошло на второй план — и Пальма ничего не могла с этим поделать.
Все так же, не прибавляя и не сбавляя шага, дед Матвей то обходил густо вставшие на пути сучковатые ели, то, нагнувшись до самой земли, скользил под упавшей лесиной, то обходил бурелом косогором; а Пальма, не доставая лапами твердой опоры, «ныряла» следом за ним.
— Наделали мы с тобой долов, наделали дак наделали… Ай-я-яй! — Матвей опять слегка начал сердиться, но теперь на себя: зачем поздно в такой снег залез а тайгу, собаку за собой потащил; самому не сидится, так других-то бы уже не неволил… — Ишь, снежина-то какая!
Дед остановился и, громко хлопав, постукал лыжу о лыжу — над самой головой что-то вдруг зашуршало, и к ногам, мягко ухнув, упал целый сугроб. И тотчас то здесь, то там стал срываться и падать на землю, оставляя в воздухе белые завесы, скопившийся на ветвях снег; черно-зеленые лапы, освобождена, легко взлетали вверх, раскачивались и опускали на землю все новые и новые лавины — дед Матвей быстро поворачивал голову ко всякой рванувшейся вверх ветви, ожидая увидеть соболя…
Пальма, конечно, видела, что никакого соболя нет, но из деликатности притворялась, будто тоже что-то учуяла: пружинно перебирала задними лапами и даже тявкнула раза два на вершины елей, искоса взглядывая на деда Матвея, пока тот не понял, наконец, что снег падает сам собою, от тяжести. «Голодному петуху все зерно снится»,— подумал старик и опять полез на косогор, обходя еловый завал. Тут же, за буреломом, он наткнулся на след… След едва заметный, заваленный снегом. По глубине и неровности борозды, непарно поставленным ямкам было ясно, что это след либо человека без лыж, либо… Дед быстро посмотрел в одну сторону, другую, присел… Два дня назад, когда он проходил мимо этого бурелома, здесь было чисто. Сердце застучало гулко и часто. Нарисовав «камасьями» веер не снегу, дед быстро развернулся. Пальма смотрела на наго, подняв уши и чуть наклонив голову вбок. Матвей постоял немножко молча, затем сладким шепотом подозвал собаку и ткнул пальцем в след:
— Нюхай… нюхай, Пальмочка… Нюхай.
Он тащил Пальму за шерсть на загривке, совал ее носом в «ямки», но запаха не было, и Пальма только повизгивала, чувствуя себя кругом виноватой.
«Ах ты, пятнай тебя!» — выругался дед, встал, снял шапку, пригладил прилипшую ко лбу прядку волос и прислушался. Снег заметно редел; поднимался северный ветер, и тайга уже стонала зловеще и глухо. Дед Матвей сотни раз слышал этот голос тайги и даже любил, но сейчас ему стало не по себе: единственным убежищем он видел почему-то только избушку. Но тут же представил себе, что сказали бы мужики, если б узнали, как он от медвежьего следа убежал в зимовье!.. Дед покосился на Пальму, как бы желая убедиться, что она ничего такого не заметила — собака положила морду на передние лапы и точно спрашивала поднятыми кругляшками бровей: «Что же стоим-то?»
— Сичас, сичас! — дед Матвей снял с плеча «тулку», переломил, вынул дробовые патроны, достал две патрона из самого края патронташа и легко всунул в стволы. Пальма вскочила, напряженно глядя то на хозяина, то вниз по ручью…
— Да нет ничо, Пальмочка, ничо,— успокоил старик и пошел несуетливым быстрым шагом. Теперь в каждом движении его появилась особенная, сковывающая осторожность, и, если случалось треснуть сучку, он застывал, резко хватался за ремень на плече и долго-долго прислушивался: страшнее медведя-шатуна не может быть в тайге ничего… Забеспокоилась и собака: она так же часто замирала, слушала, нюхала воздух, но, не уловив ничего, фыркала носом и с веселым любопытством смотрела на деда Матвея.
Наконец ручей кончился. Вышли в Кедровую. Горы по бокам здесь стояли шире и не так отвесно, и даже сам воздух, казалось, опять посветлел. На одной из елей дед Матвей заметил поползня. Птичка, чуть слышно шурша, шла по стволу вниз головой, выискивая что-то в чешуйках коры. При виде ее на душе деда стало веселей и спокойней.
Он шел все так же быстро, слушая, как мягко похлопывают задки «камусьев» о снег.
— Доберемся, Пальма, уж теперь скоро и доберемся: впереди Шумиха — а там и дорога.
Дед Матвей приостановился и, чуть покрутив головой влево и вправо, толчками продул ноздри: одну — другую… И вдруг Пальма, болезненно взвизгнув, прыгнула в сторону и, разбрасывая передними лапами снег, сделала несколько скачков вверх по косогору. Хвост ее закрутился в кольцо, шерсть не загривке вздыбилась. Дед Матвей сел, дрожащими пальцами распутал ремни, ступил с «камусьев» в снег и сразу провалился по пояс — так, что дух захватило. Подняв ружье вверх, мелко-мелко переступая с ноги на ногу, начел оттаптывать вокруг ели площадку. Матвей уже чуял, что медведь где-то рядом, и только не понимал, почему тот до сих пор таится. Он уже вытоптал широкую, с толстой елью посередине, площадку, а медведя все не было…
Пальма стоила на прежнем месте, и только хвост ее время от времени чуть- чуть вздрагивал. Матвей, сунув пальцы правой руки в рот и привалившись плечом к стволу дереве, тоже замер, только глаза его лихорадочно прыгали от дереве к дереву… Прошло еще минут десять. Снег посинел окончательно. Сумерки все больше сгущались в ночь. Дед приложил приклад к плечу и чуть не ахнул: мушка почти не угадывалась… Ружье в ослабевших от страха руках показалось непомерно тяжелым.
— Пальма… Пальма! — позвал он чуть слышно. Собака на мгновенье обернулась и опять напряглась, как пружина…— Сю! Пальма, сю!
Пальма жалобно взвизгнула, присела и прыгнула — раз, еще раз и еще…— в ту сторону, откуда они только что вышли. И тут же, на ровном месте в десяти шагах от Матвея как будто взорвалось: сквозь полетевшие вверх и в стороны белые комья он увидел что-то бурое, неожиданно быстрое… Рыжей полоской мелькнула собака. Все смешалось в клубок и, поднимая вихрь снега, покатилось к нему! Матвей прыгнул в сторону — оступился, упал, не помня себе, вскочил на ноги… Пальме, заливаясь пронзительным лаем, впивалась в медведя, повисала на нем и, опережая удары когтей, всякий раз отлетала назад…
Дед Матвей не помнил, как очутился за деревом — тут же с вихрем снега пронесся зверь, резко сел не задние лапы, затормозил, повернулся к нему и съежился для последнего прыжка. Матвей в ужасе вытянул руки с ружьем, стараясь, как палкой, отгородиться им от зверя — треснул выстрел, незаметно, почти что неслышно.
 Дед дернулся и открыл глаза: медведь в трех шагах от него, бешено скалясь, заворачивал голову в бок и назад, распускался всем телом и оседал. От второго выстрела голове его мотнулась вверх и плавно упала. Матвей, не отрывая глаз от зверя, переломил ружье, стал вытаскивать гильзы, роняя их в снег, достал пулевые патроны, но никак не мог заложить в ствол. Он постоял, прислонившись к ели, но, не сумев удержать дрожания коленей, сел.
Дед дернулся и открыл глаза: медведь в трех шагах от него, бешено скалясь, заворачивал голову в бок и назад, распускался всем телом и оседал. От второго выстрела голове его мотнулась вверх и плавно упала. Матвей, не отрывая глаз от зверя, переломил ружье, стал вытаскивать гильзы, роняя их в снег, достал пулевые патроны, но никак не мог заложить в ствол. Он постоял, прислонившись к ели, но, не сумев удержать дрожания коленей, сел.
Лес шумел все громче. Крепнущий ветер жег щеки, визжал в ружейных стволах. «А убил… А-е? Убил ведь!» — наконец приходя а себя и по-новому весело возбуждаясь, думал Матвей. Посидев так с минуту, он наклонился вперед и, помогая себе руками, поднялся. Медведь лежал с сильно вытянутой мордой странно неподвижно и, казалось, медленно опускался на снег.
Вдруг дед Матвей замер, оглянулся назад и, сунув ружье прикладом в снег, кинулся за ель к косогору. Упругая ветка хлестнула в лицо. Он шагнул вправо — и остановился. Земля качнулась под ним, поплыла — он схватился за грудь и застыл с открытым ртом, не в силах ни набрать воздуха, ни выдохнуть.
Пальма лежала на боку со свободно вытянутыми в стороны лапами, с чуть закинутой назад головой. Ветер шевелил ее рыжую шерсть, от этого она все больше и больше светлела и будто растворялась…
— Собачушка…Собачушка…— простонал Матвей.—Как же это?..
А тайга гудела все громче; где-то, гулко хлопал, застучал сухостой; протяжно и тоскливо скрипели сосны на склоне, а снег, подхваченный вьюгой, уже катился по поляне белыми волнами, зметая все следы.
М. Шадрин
“Охота и охотничье хозяйство” №12 – 1979